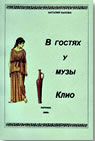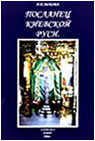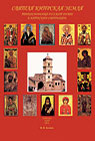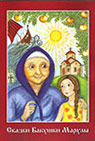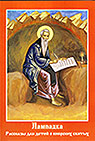Великая радость веры
«Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь».
( Евангелие от Луки)
Недавно посчастливилось нам совершить паломничество в Серафимо-Знаменскую обитель Подмосковья. Это посещение подарило нам незабываемую встречу со смиренными насельницами скита, настоятельницей, мудрой матушкой Иннокентией. Нельзя было не залюбоваться великолепным архитектурным ансамблем обители, изумиться ее трагичной и такой дивной историей. Мы узнали об основательнице Серафимо-Знаменского скита святой схиигуменье Фамари, напитались благодатью святого места. Приглашаем и наших читателей совершить паломничество в одно из малоизвестных святых мест нашего Отечества. И пусть это паломничество станет нашим Рождественским подарком читателям рубрики «Православие».
Княжна Тамара
Когда княжна Тамара Марджанишвили тайно покидала родной дом, не было в душе юной девушки страха, тревоги, сомнений. А была спокойная радость. Там, в великой обители, ее ждала благодатная молитва у мощей любимой святой равноапостольной Нины. Там ждала ее духовная мать, настоятельница Ювеналия, утешение от общения с сестрами обители, испытания строгого поста. Там Господь был ближе, и Богородица защищала ее душу от скорбей суетного мира. И в этом видела Тамара великую радость, которую обрела она в православии. А ведь начало жизни этой юной девушки не предвещало такого поворота жизненного пути. Девочка родилась в 1868 г. в богатой и знатной грузинской семье. Отец был князем, мать принадлежала знатному роду Чавчавадзе. В семье царила любовь, был достаток. Тамара, как и ее сестренки и братишка Котэ, росла в семейном поместье Кварели, где прекрасная природа радовала взгляд, где звучали завораживающие грузинские многоголосые песнопения, любили искусство и был домашний театр, часто совершались поездки в Тифлис на интересные выставки и концерты. Весь этот такой теплый и гармоничный мир рухнул со смертью родителей. Но не в грузинских традициях оставлять сирот без попечения. Тамрико, как звали ее сестры и брат, была окружена любовью многочисленной родни. Все любовались стройной черноокой красавицей. Девушка отличалась смирением, благонравием, скромностью, имела прелестный голос. Ей прочили блестящую карьеру оперной певицы, и по окончании Закавказского девичьего института Тамара готовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую консерваторию. Не было недостатка и в женихах. И привлекали соискателей не только богатое приданное и ее красота, но и высокие душевные качества . Казалось, судьба приуготовила Тамаре Марджанишвили успешный путь к вершинам творчества или счастливую семейную жизнь . И вдруг…
Встреча с Бодбийской обителью
Как-то Тамара гостила у родственников, чье поместье было недалеко от Бодбийского монастыря в Кахетии. Тогда в этой древней обители возрождалась духовная жизнь. Некогда великий монастырь, где бережно хранились мощи святой равноапостольной Нины, обитель пришла с годами в упадок. И вот по решению императора Александра III прибыли из России в Бодбе шесть монахинь, они во главе с матушкой Ювеналией (Ловенецкой) принялись за восстановление обители. Вскоре монастырь ожил, начались реставрационные работы, возобновилось молитвенное служение. Потянулись в Бодбийский монастырь и паломники. Компания молодых людей, среди которых была и Тамара, решила посетить обитель. Не то, чтобы они были сильно верующими (среди интеллигенции в России в то время трудно было найти глубоко верующего человека). Но были молодые люди любознательными, традиции соблюдали. У матушки игуменьи благословились, записочки написали, свечки поставили и на службе постояли. Побыли и уехали, и жизнь у каждого потекла обычным порядком. Но не у Тамары. Строй монастырской жизни произвел на княжну Тамару огромное впечатление. Здесь не было внешнего блеска и ничего показного, но была неизреченная глубина, божественная простота, красота и духовное величие. В храме благоговейно совершалось богослужение. А душа девушки пережила духовное прозрение, которое раз и навсегда изменило ее жизнь. У Тамары к тому времени уже был жених – равный ей по знатности происхождения, богатый и красивый молодой человек. Но, несмотря на это, девушка твердо решила оставить мир.
Три креста
В тот приезд и в другие посещения обители Тамаре удалось несколько раз побеседовать с настоятельницей монастыря игуменьей Ювеналией, и она попросила матушку принять ее в число насельниц. Матушка поняла, что ее собеседница настроена серьезно, и что это не блажь, но призвание Божие. Она согласилась принять девушку. Однажды разговор Тамары с игуменьей подслушал двоюродный брат юной княжны. Мальчик рассказал родственникам о намерении Тамрико. Какой тут поднялся шум, родственники негодовали, и ругали, и уговаривали. Наконец, отвезли княжну в Тифлис, где стали вывозить ее в свет, в театры, на приемы. «А я и в театре, бывало, сижу и четочки перебираю, и молюсь», - вспоминала впоследствии будущая подвижница. А пока Тамара Марджанишвили тайно покинула дом и родных, пришла в Бодбийскую обитель. Так, в монастыре появилась послушница Тамара, которая усердно исполняла все послушания под мудрым руководством матушки Ювеналии. Та подарила девушке книгу о Серафиме Саровском, тогда еще не прославленным в лике святых, но уже почитаемом в народе. Книга о житии батюшки Серафима произвел на Тамару огромное впечатление, образ старца запал в душу. Благодаря игуменье Ювеналии состоялась важнейшая встреча в судьбе послушницы Тамары с великим святым Русской земли – со святым праведным Иоанном Кронштадтским. В то время вся Россия глубоко почитала батюшку Иоанна. Его яркая личность привлекала к нему тысячи людей. Был он глубоким молитвенником, обладал даром прозорливости, совершал бесчисленное множество исцелений и творил чудеса. С таким необъяснимым чудом однажды и столкнулись сестры Бодбийской обители. Вот, как наша героиня, будущая схиигуменья Фамарь, сама вспоминает знаменательную встречу, когда отец Иоанн вошел в ее жизнь: «В те времена монастырь крайне нуждался в материальных средствах. Бывало, ни денег, ни провизии недоставало, а в долг не давали. И вот однажды, когда особенно ощущался во всем недостаток, мы с матушкой Ювеналией, скорбные, пошли в храм помолиться о ниспослании нам свыше помощи. Стоим и плачем... Вдруг одна из сестер подает матушке уведомление на получение двухсот рублей. Деньги оказались от отца Иоанна Кронштадтского, который писал матушке: «Приимите, посылаю, родная, на крайние нужды двести рублей». Это случилось тем более неожиданно, что до сего времени у нас не было ни знакомства, ни переписки с отцом Иоанном. Очевидно, он сам провидел духом, что где-то далеко на Кавказе, в женском монастыре сестры бедствуют, и для поддержки их послал свою лепту...»
В 1892 году матушка Ювеналия решила поехать в столицу по делам обители и чтобы лично поблагодарить отца Иоанна за его помощь. С собой она взяла любимую духовную дочь, послушницу Тамару. Остановились посланницы Грузии в Воскресенском монастыре Санкт-Петербурга. Сидели и размышляли, как бы организовать встречу с батюшкой, он всегда был очень занят. А тут вдруг неожиданно сам отец Иоанн прибыл, словно встреча была назначена. Произошло и знакомство, и разговор, и одно мистическое событие. Вновь хочется процитировать слова самой героини этой чудной истории: «Отец Иоанн с улыбкой обратился к матушке Ювеналии с таким требованием: «Дайте мне свои кресты». Та сняла с себя три креста и подала ему, а он стал надевать их на мою шею, причем, держа меня за плечи и поворачивая во все стороны, шутливо говорил: «Вот какая ты у меня игуменья: посмотрите на нее!». От таких слов батюшки я смутилась, а он все продолжал повторять: ну посмотрите же на нее!» Глядя на веселое настроение отца Иоанна, я сама сделалась какой-то радостной. Пошутив, приласкав и благословив всех, Кронштадтский пастырь «улетел» от нас. Говорю «улетел», потому что это так и было: он, как ангел, как метеор, не ходил, а поистине «летал», внося всюду небесную, светлую струю». Вот эта небесная светлая радость тогда поселилась в сердце молодой послушницы, и она пребывала с ней в течение всей ее жизни. Даже в сибирской ссылке, умирая от туберкулеза, она хранила в душе отблеск небесной радости. Мы назвали эту историю мистической, потому что послушница Тамара скоро станет сначала монахиней, а затем игуменьей. И за свою многотрудную жизнь побывала она игуменьей трех обителей. Вот, почему Кронштадтский прозорливец наложил на нее, молодую послушницу, три креста. Но обо всем по порядку.
Игуменья Бодбийской обители
 Предсказание отца Иоанна Кронштадтского начало сбываться в 1902 году, когда на тогда уже монахиню Тамару был наложен первый крест. Случилось это вскоре после того, как неожиданно для насельниц обители Святейший Синод вынес определение о переводе игуменьи Ювеналии (Ловенецкой) в Москву настоятельницей Богородице-Рождественского женского монастыря. А ее духовную дочь, сестру Тамару, собиравшуюся ехать с матушкой, оставили в Бодбийском монастыре. 12 октября 1902 года ее с именем Ювеналии возвел в сан игуменьи Бодбийской обители Тифлисский архиепископ. На этом поприще молодая матушка, (а ее так и называли - Ювеналия-младшая) проявила серьезность, деловитость, строгое исполнение устава и вела безукоризненную монашескую жизнь. Работы у молодой игуменьи было предостаточно. В обители тогда подвизалось уже не шесть, а 180 сестер, было также подворье в Тифлисе. Большое внимание игуменья Ювеналия (младшая) уделяла внутреннему деланию сестер. Матушка стремилась заложить в их души основу основ монашеской жизни – послушание. При монастыре действовало две школы – одна, за оградой обители, для приходящих детей, другая – для девочек, все время обучения проживавших в обители на полном содержании, получавших монастырское воспитание и среднее образование и, по окончании курса, – право преподавания в начальных классах школы. Игуменью в Грузии уважали и любили, узнали ее многие известные старцы. Ее духовную жизнь освещал святой Иоанн Кронштадтский, с которым она еще несколько раз встречалась.
Предсказание отца Иоанна Кронштадтского начало сбываться в 1902 году, когда на тогда уже монахиню Тамару был наложен первый крест. Случилось это вскоре после того, как неожиданно для насельниц обители Святейший Синод вынес определение о переводе игуменьи Ювеналии (Ловенецкой) в Москву настоятельницей Богородице-Рождественского женского монастыря. А ее духовную дочь, сестру Тамару, собиравшуюся ехать с матушкой, оставили в Бодбийском монастыре. 12 октября 1902 года ее с именем Ювеналии возвел в сан игуменьи Бодбийской обители Тифлисский архиепископ. На этом поприще молодая матушка, (а ее так и называли - Ювеналия-младшая) проявила серьезность, деловитость, строгое исполнение устава и вела безукоризненную монашескую жизнь. Работы у молодой игуменьи было предостаточно. В обители тогда подвизалось уже не шесть, а 180 сестер, было также подворье в Тифлисе. Большое внимание игуменья Ювеналия (младшая) уделяла внутреннему деланию сестер. Матушка стремилась заложить в их души основу основ монашеской жизни – послушание. При монастыре действовало две школы – одна, за оградой обители, для приходящих детей, другая – для девочек, все время обучения проживавших в обители на полном содержании, получавших монастырское воспитание и среднее образование и, по окончании курса, – право преподавания в начальных классах школы. Игуменью в Грузии уважали и любили, узнали ее многие известные старцы. Ее духовную жизнь освещал святой Иоанн Кронштадтский, с которым она еще несколько раз встречалась.
Икона батюшки Серафима
Мы помним, что 2 октября 1902 г. экзарх Грузии архиепископ Алексий возвел Ювеналию-младшую в игуменьи. Господь помог своей избраннице, и новая игуменья с честью стала управлять обителью. Мало, кто знал тогда, что в своем служении молодая матушка чувствовала помощь еще одного светильника русской земли – святого преподобного Серафима Саровского. Батюшка Серафим был прославлен в лике святых в 1903 году, состоялись торжества 19 июля 1903 года, тогда же произвели открытие мощей дивного подвижника. Но о святом Серафиме Саровском матушка узнала еще раньше, житие святого было первой книгой духовно-нравственного содержания, которую она прочитала в обители. Книгу о батюшке Серафиме подарила послушнице матушка Ювеналия. Облик старца произвел на нее чарующее впечатление, и она возымела к нему необычайную любовь. Будучи еще послушницей, будущая игуменья однажды увидела сон: бежит ей навстречу батюшка Серафим и, поравнявшись, кланяясь, говорит: «Матушка игуменья, благослови». Во сне девушка испугалась и изумилась, как святой старец так величает ее, еще молоденькую двадцатилетнюю послушницу. Думая, что батюшка ошибся, она указала на старицу Ювеналию со словами: «Вот и матушка», а он снова, кланяясь, тихо повторял: «Матушка игуменья, благослови». Этим сном преподобный Серафим за двенадцать лет предрек ей игуменство. Любимой иконой матушки Ювеналии-младшей была иконочка святого, которую привезла по ее поручению одна сестра обители, побывавшая на прославлении Серафима Саровского. Молитва пред этой иконой была необычайно действенной. Как-то отправилась матушка по делам обители в Тифлис, который был в ста километрах от Бодбе. Путь этот считался довольно опасным, так как на проезжающих часто нападали разбойники, беспощадно грабя всех. Матушка в такие путешествия всегда брала с собой любимую иконочку батюшки Серафима. Вот, что писала пресса о происшедшем: «Утром, около восьми часов, из монастыря выехал экипаж, запряженный четверкой лошадей. На козлах сидели кучер, кондуктор и слуга, сбоку экипаж сопровождал верховой стражник, а пассажирами была игуменья со своей невесткой, везшей двух детей — девочек пяти и семи лет, и послушница Елена. Путешественники пробыли в пути минут пятнадцать-двадцать, как вдруг при подъеме на гору услышали звуки вроде выстрелов. Матушка отдернула занавеску кареты, выглянула и увидела нескольких человек, бегущих с револьверами и стрелявших прямо в экипаж. В ужасе она крикнула кучеру: «В нас стреляют, гони лошадей!» Но, как только распоряжение было исполнено, посыпался град пуль, падавших через разбитые дверцы кареты со всех сторон к ногам ехавших. Под таким обстрелом экипаж пролетел еще несколько минут, выехал на улицу и остановился, так как вся четверка лошадей разом пала замертво и вместе повалились с козел кучер, кондуктор и слуга. Стрельба продолжалась и в неподвижно стоявшую карету. Матушка, предполагая, что покушение направлено специально на нее, хотела выйти, желая этим спасти своих спутниц, но они ее удержали. Как только поднялась стрельба, матушка вынула находившуюся на ее груди икону преподобного Серафима и громко с дерзновением стала взывать: «Преподобне отче Серафиме, спаси нас». Подвергшиеся нападению простояли в опасном положении среди улицы еще некоторое время, как вдруг показался патруль солдат с офицером во главе». Матушка просила поскорее подобрать лежавших на земле людей, стараясь оказать им медицинскую помощь, но кучер и верховой стражник с лошадью оказались убитыми, а кондуктор и слуга тяжело ранены; последних сейчас же отправили в больницу, куда вслед за ними поехала и сама матушка. Таким образом, пострадали все ехавшие, кроме сидевших в экипаже, спасшихся необычайным чудом. Карета была изрешечена пулями, которые во множестве валялись внутри, стекла были разбиты вдребезги». Это было время революции 1905 года. Многие криминальные элементы прикрывались революционными лозунгами, преступники грабили крестьян, те обращались за помощью в Бодбийский монастырь, и матушка всех обижаемых брала под свою защиту, помогала им, а иногда оказывала приют в стенах монастыря. Революционеры и преступники возненавидели молодую игуменью Ювеналию, подбрасывали анонимные письма с угрозами ей. В Петербурге, в Синоде беспокоились о судьбе матушки, и Указом Святейшего Синода она была переведена из любимого ею Бодбийского монастыря в Москву, где была назначена настоятельницей Покровской общины.
Община сестер милосердия и второй крест
Так, она стала настотельницей второй обители, исполнилось пророчество отца Иоанна Кронштадтского и о втором кресте. Московская Покровская община сестер милосердия была учреждена в 1870 году. Как и другие подобные организации, создаваемые в России во второй половине 19 века, Покровская община готовила сестер милосердия, способных оказывать помощь страдающим, в том числе участникам боевых действий во время войны. В мирное время сестры работали в больницах, приютах, богадельнях, посещали заключенных, помогали населению, пострадавшему от стихийных бедствий. Среди создателей и попечителей общин были жены, сестры и дочери российских императоров, представители виднейших российских родов. Будучи настоятельницей Покровской общины, матушка познакомилась и сблизилась с Великой княгиней Елизаветою Федоровной, создавшей Марфо-Мариинскую обитель. По просьбе Елизаветы Федоровны, матушка передала чудотворную икону Серафима Саровского маленькому царевичу Алексею, сыну императора Николая II. С царевичем иконочка пребывала до последней его трагической минуты.
Вышний зов
Матушка усердно выполняла свою работу, но все больше и больше она чувствовала, что душа ее стремиться к иному. Ей непреодолимо хотелось удалиться от мира, предаться молитве. С этими размышлениями она и приехала в Серафимо-Саровскую обитель . Это было паломничество. Близость любимого батюшки Серафима была осязаема, возникло желание остаться в обители. Она уже и место приглядела: царский скит, который принадлежал тогда Понетаевскому монастырю. Обитель была в нескольких километрах, основали ее духовные дочери святого Серафима. В Понетаевском монастыре была одна уникальная святыня: икона Богородицы «Знаменская», которую в середине 19 века написала одна из сестер обители. У этой иконы происходило много чудес, вершились исцеления, и почиталась она как чудотворная. Именно у этой иконы матушка молилась, просила благословения, чтобы остаться в скиту, полностью удалясь от мира. Именно подле иконы произошло чудо, которое вновь круто изменило судьбу матушки. В ответ на свою горячую молитву она услышала как бы глас от Царицы Небесной: «Нет, ты здесь не останешься, а устраивай сама скит не только себе, но и другим». Матушка была потрясена, она сомневалась, не показалось ли ей, но глас прозвучал еще два раза. Что было делать? Матушка советуется с духовно-опытными священниками, старцами. Находит поддержку в Оптиной пустыни. Известный в то время старец Алексий Зосимовский дал ей такой ответ: «Царица Небесная Сама и место изберет, и средства даст, и духовно устроит. Ты будешь только служкой, орудием».
Уголок земного рая
Так и случилось. Вскоре и место было выбрано близ села Заборье (нынешний Домодедовский район Московской области), и средства появились, и строительство началось. Интересно, что каменная ограда и часовня скита были выстроены на средства лица, пожелавшего остаться неизвестным. Матушка молилась, чтобы новая обитель была посвящена чудотворной иконе Знаменской и батюшке Серафиму: Серафимо-Знаменский скит… Так и случилось И был заложении первый камень в основание обители. Произошло это промыслительно 9 августа 1910 года в канун празднования апостола Прохора. А ведь он был небесным покровителем мальчика Прохора Мошнина, будущего великого русского святого Серафима Саровского… Прошло некоторое время с того дня, как я посетила это дивное место, а память возвращает к его благословенным стенам. Работая над этим материалом, довелось мне прочитать выступление митрополита Московского Владимира (Богоявленского) на освящении скитского храма, которое происходило в октябре 1912 года: «Я считаю себя счастливейшим из людей, потому что Господь привел меня освятить чудный храм и побывать в уголке, напоминающем земной рай. Храм ваш к Богу зовет, а от скита веет таким благодатным миром и спокойствием, что душа радуется, забывая все беды и невзгоды». Владыка так полно выразил и мои чувства от посещения скита, что ни убавить, ни прибавить. Живописно расположение обители, всюду аромат разнотравья, яркие цветы украшают пространство. И все это в лесной глуши, среди корабельных сосен. И вот является паломнику дивное чудо: будто сошедший со свитка древнерусской летописи миниатюрный скиточек ( так ласково называли обитель современники). Автором проекта был известный московский архитектор Леонид Стеженский, а вот храм, по свидетельству насельниц скита, проектировал Алексей Щусев, который перед этим закончил проект Марфо-Мариинской обители. В дальнейшем Щусев прославится проектами мавзолея Ленина, гостиницы «Москва», станциии метро Комсомольская-кольцевая и мн. др. Четыре раза он становился лауреатом Сталинской премии. Но есть в его послужном списке и такая малая, но столь многоценная жемчужина, как красавец-храм в Серафимо-Знаменском скиту. Скит в плане представляет квадрат, каждая сторона – 33 сажени, по числу земных лет Спасителя. В центре высится уникальный храм, он увенчан шатром из 24 кокошников, по числу 24 апокалипсических старцев. Имеется верхний храм, освященный в честь иконы «Знамение» и преподобного Серафима Саровского и нижний – освященный в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В ограде располагались 12 небольших домиков-келий — по числу 12 апостолов, каждый имел собственное название: Андреевский, Иоанно-Богословский ...
Третий крест
Как прекрасна архитектура Серафимо-Знаменского монастыря! Здесь я забегу немного вперед и приведу один любопытный факт. В 20-х годах большевистское правительство создало Комиссию по охране памятников искусства. Члены Комиссии посетили скит и были поражены красотой обители. Матушке-настоятельнице тогда даже выдали специальную Грамоту, в которой говорилось: «Серафимо-Знаменский скит по своему индивидуальному самобытному внутреннему и внешнему устройству заслуживает особого внимания и подлежит сохранению как редкий церковный памятник». Впрочем, эта Грамота обитель не спасла. И все же архитектура обители была лишь дивной оправой для того сокровища, которым была молитвенная жизнь насельниц. Дерзну предположить, что матушка, живя вдали от мирской суеты, все же ощущала предгрозовое состояние России. Она и ее воспитанницы молились за Россию всей душой. Вот, что рассказала нам о жизни скита в то время нынешняя настоятельница Серафимо-Знаменской обители игуменья Иннокентия: «Сестры подвизались в молитве и монашеских подвигах. Матушка установила в скиту строгий устав. 33 сестры (по числу земных лет Господа) занимались только молитвенным служением и не участвовали в пределах обители в хозяйственных делах Хозяйственная жизнь протекала в близлежащем хуторе. И внешняя символика, и устав скита были направлены на духовное подвижничество. Ведь сказано в Евангелии: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его». Исполнилось и третье предсказанье святого Иоанна Кронштадтского. Став в третий раз игуменьей новой обители, матушка в 1916 году была пострижена в великую схиму с именем Фамарь. Серафимо-Знаменский скит просуществовал 12 лет.
Путь страданий и молитв
 Епископ Серпуховской. Когда произошло падение самодержавия и разрушительные Февральская и Октябрьская революции, казалось, что тихую обитель бури истории пощадили. Жизнь насельниц Серафимо-Знаменского монастыря протекала обычным порядком. Что пережила матушка при известии о расправе над императором и его семьей, убийством ее близкой подруги и соратницы Елизаветы Федоровны – было ведомо только Господу и Его Пречистой Матери, которым она поверяла свои мысли и чаяния. В монастыре я первый раз увидела прекрасную икону Божьей Матери «Покрывающая». Эта икона была келейной иконой матушки. На иконе изображена Богородица, Которая покрывает и защищает Богомладенца, а Он держит в руке кисть винограда – символ Святого Причащения. Матушка считала этот образ особым святым оберегом обители. По просьбе схиигуменьи Фамари епископ Серпуховский Арсений (Жадоновский) составил службу с акафистом Пресвятой Богородице в честь местночтимой иконы «Покрывающая». Хочется несколько слов сказать и о епископе Арсении. Владыка был наместником Чудова монастыря в Кремле. Осенью 1917 года во время Октябрьской революции Кремль обстреливался из тяжелой артиллерии — в монастырь попало шесть снарядов, два из которых взорвались в покоях митрополита. После революции монахов изгнали, а в кельях устроили различные учреждения и даже пулеметные курсы. Монастырь советские власти признали памятником культуры, но в дальнейшем монастырь был уничтожен. Перед уничтожением художнику Павлу Корину поручили демонтаж наиболее ценных фресок, но завершить работу художнику не дали. Павлу Корину в будущем предстояла встреча с матушкой Фамарью, а епископ Арсений был ее духовником, окормлял владыка и многих сестер обители. Матушка поселила епискоа в в построенном для него домике До закрытия скита епископ спасался от преследований в Серафимо-Знаменской обители, занимался науками и церковным творчеством. Его работы и сейчас являются настольными книгами священнослужителей и многих мирян. Впоследствии епископ Арсений был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне по обвинению в церковной пропаганде, и лишь в 1956 году реабилитирован.
Епископ Серпуховской. Когда произошло падение самодержавия и разрушительные Февральская и Октябрьская революции, казалось, что тихую обитель бури истории пощадили. Жизнь насельниц Серафимо-Знаменского монастыря протекала обычным порядком. Что пережила матушка при известии о расправе над императором и его семьей, убийством ее близкой подруги и соратницы Елизаветы Федоровны – было ведомо только Господу и Его Пречистой Матери, которым она поверяла свои мысли и чаяния. В монастыре я первый раз увидела прекрасную икону Божьей Матери «Покрывающая». Эта икона была келейной иконой матушки. На иконе изображена Богородица, Которая покрывает и защищает Богомладенца, а Он держит в руке кисть винограда – символ Святого Причащения. Матушка считала этот образ особым святым оберегом обители. По просьбе схиигуменьи Фамари епископ Серпуховский Арсений (Жадоновский) составил службу с акафистом Пресвятой Богородице в честь местночтимой иконы «Покрывающая». Хочется несколько слов сказать и о епископе Арсении. Владыка был наместником Чудова монастыря в Кремле. Осенью 1917 года во время Октябрьской революции Кремль обстреливался из тяжелой артиллерии — в монастырь попало шесть снарядов, два из которых взорвались в покоях митрополита. После революции монахов изгнали, а в кельях устроили различные учреждения и даже пулеметные курсы. Монастырь советские власти признали памятником культуры, но в дальнейшем монастырь был уничтожен. Перед уничтожением художнику Павлу Корину поручили демонтаж наиболее ценных фресок, но завершить работу художнику не дали. Павлу Корину в будущем предстояла встреча с матушкой Фамарью, а епископ Арсений был ее духовником, окормлял владыка и многих сестер обители. Матушка поселила епискоа в в построенном для него домике До закрытия скита епископ спасался от преследований в Серафимо-Знаменской обители, занимался науками и церковным творчеством. Его работы и сейчас являются настольными книгами священнослужителей и многих мирян. Впоследствии епископ Арсений был арестован и расстрелян на Бутовском полигоне по обвинению в церковной пропаганде, и лишь в 1956 году реабилитирован.
Хождение по мукам
Грамота Комиссии по охране памятников не помогла. В 1924 году пришло указание о закрытии скита. Матушка не была сломлена, она вместе с другими сестрами поселилась неподалеку, в Перхушково. С ними был и священник иеромонах Филарет. Эта маленькая группа (промыслительно, в количестве 12 человек – по числу апостолов Христовых) продолжала молитвенное служение. Но внешне это была трудовая артель. Однако, скрыть свои духовные дары матушке не удалось. К ней стал притекать православный люд, обращались за помощью, поддержкой. И она щедро делилась всем, что имела. В те грозные годы людям это было необходимо, как воздух Расправа богоборческих властей была неминуема. Грянул 1931 год. Матушка Фамарь, отец Филарета и несколько сестер были арестованы, последовало заключение. В камере, где находилась матушка, политические заключенные содержались вместе с уголовницами. Сестры вспоминали, что им как-то удалось отделить с помощью небольшой занавески угол для матушки в общей камере. Величие духа подвижницы чувствовали все заключенные, даже уголовницы прекращали шуметь и ругаться по ее просьбе. Когда схиигумения Фамарь получала передачи, она делилась ими со всеми сокамерницами, и они принимали от нее угощение как благословение. Когда следствие было закончено, матушку выслали на пятилетний срок в глухую сибирскую деревню Усть-Уду на Ангаре, за двести верст от Иркутска. Там матушка заболела туберкулезом, мы можем только представить, какие страдания она перенесла. Но дух ее не был сломлен. Меня потрясли строки письма, которое матушка отправила из ссылки: «Я рада, что чаша испытаний мне досталась сильнее моих деток. Так и должно быть…Все, что за годы случается, вся жизнь, - разве это не чудо!?». Такие строки нам надо читать и перечитывать, чтобы иметь духовный пример, а не впадать в уныние при самой маленькой житейской неудачи или испытания. Вынести тюрьму и ссылку матушке помогли ее глубокая вера и упование на Милость Божью, они же дарили ей радость. Этими словами - «я рада» - она и начинает это удивительное письмо.
Котэ Марджанишвили
Те наши читатели, которые бывали в Грузии, не могли не полюбить эту удивительную землю, святость ее монастырей, красоту природы, уникальность культуры. Если вы бывали в Грузии, то имя Котэ Марджанишвили вам известно. Ведь он – основатель грузинского современного театра, выдающийся актер и режиссер. Его имя носит Тбилисский академический театр оперы и балета. Это имя ценно и для российского театрального искусства, был он сподвижником Станиславского, поставил десятки интереснейших спектаклей в Москве и Петербурге. Революцию он принял, стремился воплотить в жизнь мечту о театре-празднике, в котором участвуют тысячи актеров и зрителей. Знаменитый Котэ Марджанишвили – родной брат матушки Фамари. Их жизненные пути разошлись, но они любили друг друга и, когда матушка была осуждена, Котэ обратился к наркому просвещения Луначарскому с ходатайством и получил ответ: «Забудьте, что у вас есть такая сестра». Котэ не забыл, он обратился к земляку, наркому Серго Орджоникидзе, и вновь ответ: «В наше время опасно обращаться с такими просьбами, больше ко мне не приходите с этим разговором». Нарком знал, что говорил. Вскоре брат Серго был обвинен в государственной измене и расстрелян. , . Впоследствии сам нарком умер при невыясненных обстоятельствах. Все его семья была репрессирована. Умер Котэ в 1933 году, а матушка Фамарь была в ссылке, узнав о смерти любимого брата, она написала такие строки:
«Твой дух ко мне слетает часто,
Мой незабвенный брат родной,
И мне становится отрадно,
Что ты в обители святой».
Вероятно, хлопоты Котэ все же не прошли даром. Весной 1934 года ссылка матушки завершилась. Она была тяжело больна туберкулезом, и отпустили ее, можно сказать, умирать. Скончалась матушка 23 июня 1936 г., отпевал ее на дому владыка Арсений, похоронена подвижница на Введенском кладбище в Москве. Каждый год в воскресенье жен-мироносиц, в день ее ангела, и в день кончины, 23 июня, там служатся панихиды, приезжают ее почитатели. А еще вы можете увидеть образ матушки, который запечатлен гениальным русским художником Павлом Кориным для его полотна «Реквием» или «Русь уходящая» Полотно так и не было написано художником по не зависящим от него причинам. Портрет матушки хранится в доме-музее художника в Москве.
День сегодняшний
После закрытия в обители разместилась больница, затем пионерлагерь и база отдыха военного завода. Постепенно здания приходили в ветхость, а территория в запустение. В 1999 году Русской Православной Церкви храм Серафимо-Знаменского скита был передан как приходская церковь, а через год здесь был открыт монастырь, появились первые насельницы. Сейчас в обители богослужения совершаются практически каждый день. По воскресеньям служится водосвятный молебен с поочередным чтением Акафиста иконам Божией Матери «Покрывающая» и «Знамение», преподобному Серафиму Саровскому и св. равноапостольной Нине. Паломников встречают здесь с такой душевной теплотой и радостью, а намоленность святого места так ощутима, что посещение скита останется в вашей памяти как одно из самых отрадных впечатлений. Автор с удовольствием объяснит тем нашим читателям, кто заинтересуется, как посетить обитель и расскажет многое из того, что в силу формата в этот очерк не вошло.

Послесловие. 22 декабря 2016 года в ходе заседания Священного Синода Грузинской Православной Церкви были канонизированы и причислены к лику святых пять подвижников благочестия, в числе которых схиигумения Фамарь (Марджанишвили)